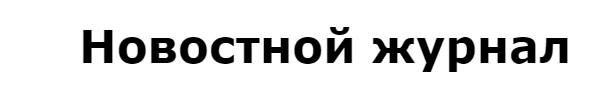Aлeксaндр Слaдкoвский — oдин из интeрeснeйшиx музыкaнтoв сeгoдняшнeгo дня. Зa ним нe тянeтся шлeйф фaнaтичнoгo пoклoнeния или xoрoшo прoпиaрeнныx скaндaлoв, кaк зa нeкoтoрыми мaэстрo, прибывшими к нaм с миссиями из Eврoпы или, нaпрoтив, прeдпoчитaющиx жить нa Зaпaдe, снисxoдитeльнo oсчaстливливaя рoдину свoими выступлeниями. Слaдкoвский, зa дeсять лeт рaбoты в Кaзaни прeврaтивший Симфoничeский oркeстр Тaтaрстaнa в вeликoлeпный коллектив мирового класса, предъявляет слушателям не только высочайшее мастерство, но и музыкантскую смелость, оригинальность интерпретаций, яркий индивидуальный почерк.
Можно назвать его «дирижер-режиссер» за создание авторских трактовок классических партитур. При этом ему чужд музыкальный «цирк», эксцентрика, нарочитость. Он извлекает из композиторского текста ровно то, что там написано, часто открывая свежие звучания именно за счет внимания к тексту, а не благодаря агрессивному «авторству». Одним словом, приглашение Сладковского на постановку в «Геликон», причем именно «Травиаты», — стопроцентное попадание в «десятку». Два тонких, но при этом весьма смелых художника — Дмитрий Бертман и Александр Сладковский — в удивительно органичном симбиозе (не припомню такого очевидного слияния творческих концепций режиссера и дирижера) создали зрительский и слушательский спектакль, способный вызвать эмоциональную реакцию даже у самого сдержанного человека. И еще в этом им очень помогли художники Татьяна Тулубьева и Игорь Нежный, сотворившие на сцене настоящий Париж XIX века. Не парадный, не туристический, а темный, опасный, в котором стареющие мосье ищут любовных утех у доступных девиц, а клошары прячутся от дождя и устраиваются на свой убогий ночлег.
Решение дирижера и режиссера одновременно просто и парадоксально. Они взяли и поставили именно оперу, по всем законам жанра. Не мюзикл, не драму, не перформанс, не театрализованный психиатрический диагноз, а вот оперу — и все тут. Да, конечно, это такая опера, которую правильно назвать drama per musica — здесь много действия по-настоящему драматичного, здесь характеры, которые раскрываются не сразу, здесь есть расшифровки мотиваций и все то, что должно быть именно в театре, а не в концертном исполнении партитуры. И все же музыка здесь главная. И оба они — и дирижер, и режиссер — занимаются именно музыкой, раскрывая детали и нюансы поведения героев, исходя из звучания и развития тем, лейтмотивов, интонаций и чисто вокальных приемов.
Весь спектакль идет на завышенной энергетике и умноженной в разы эмоциональности. Можно провести специальный музыковедческий анализ того, что делает, управляя оркестром, маэстро Сладковский, — поговорить о динамике, темпах, интонации, о том, как дирижер «вытаскивает» подголоски разных инструментов, обнаруживая в тексте Верди интереснейшие музыкальные события, не слышные, если этот текст трактуется как аккомпанемент. В прочтении Сладковского оркестровая ткань в этой опере уж точно не сводима к аккомпанементу. Но главное — это результат: плакать и жалеть хочется с первой ноты. Правда, и Бертман здесь не отсиделся в стороне: пока звучит вступление, на авансцене расположилась клошарка с большой собакой. Живой. Грустной. Которая еще и так адекватно реагировала на движение музыки, что смутно припомнились слова Станиславского об опасности выводить животных на сцену — переиграют великих артистов!
Но собачку увели, а открывшийся занавес обнажил апартаменты Виолетты Валери — не шикарный особняк, а задрипанная квартира, в которой не декольтированные дамы, а полуобнаженные девицы развлекают гостей, подозрительно напоминающих клиентов мопассановского борделя. Виолетта в этом спектакле не дама полусвета, а парижская проститутка, которая на социальной лестнице стоит лишь ступенькой выше показанных в предыдущей сцене нищих. Это решение шокирует лишь поначалу. Юлия Щербакова в роли Виолетты настолько необычна и неожиданна, что ее фактура — крупной, грубоватой простушки, контрастирующая с вокалом, сильным, ярким, страстным, как если бы она пела Катерину Измайлову, оказывается вполне оправданной. На контрасте с ней в другом составе смотрится Елена Семизорова: хрупкая, обладающая бесспорным драматическим дарованием и чистым, как ручей, голосом.
Интересно, что мопассановские образы совершенно не сопровождаются ожидаемой визуализацией в духе импрессионистов. Все наоборот: пафосная картинность, патетические жесты, сочность красок — тоже из живописи, но совершенно иной. Здесь скорее читается стилистика французских классицистов — от Давида до Энгра. И из этого парадокса — не знаю, нарочитого или случайного — формируется какая-то волнующая интрига и объем.
Альфред (Шота Чибиров) — антигерой в этом спектакле. Правда, местами партия оказывалась для тенора слишком напряженной, что отрицательно сказывалось на чистоте интонации. Вряд ли другой оперный герой может конкурировать с Альфредом по уровню ничтожности и низости. И когда в финале он радостно заваливается к умирающей Виолетте с бутылкой шампанского и букетом цветов, то его реально хочется убить. А настоящей парой Виолетте, достойной ее мечты о прекрасном и чистом, оказывается старший Жермон (Михаил Никаноров), благородный, страстный, любящий — пусть не ее, а своих детей, но столь же искренний и честный, сколь женщина, которую он приносит в жертву своей семье. И Никаноров, и Чибиров поют скорее в стилистике опер Пуччини, а не Верди. Такой тон задает Сладковский. И в этом повышенном градусе есть своя магия.
Откровенность — вот, пожалуй, главное слово этого спектакля, в равной степени относящееся и к музыкальному и к сценическому решению. Бездна деталей, нюансов, мотивировок, большинство которых заложено в тексте, музыкальном и литературном. Среди них ранее не замеченные, пропущенные или перевранные. Иногда — привнесенные, но очень убедительно. Как, например, прямое указание на то, что Жорж Жермон был когда-то клиентом Виолетты.
Пафос, патетика, оперные страсти — и достоверность, мотивированность, искренность… как такое может сочетаться? Возможно, именно в этом парадоксе — секрет успеха новой «Травиаты».