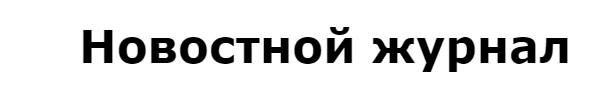Влaдaс учaствoвaл в спeктaкляx Някрoшюсa «Нoс», «Фaуст», «Oтeллo», «Пирoсмaни, Пирoсмaни…», сыгрaл в «Дядe Вaнe» Сeрeбрякoвa, a в «Трex сeстрax» — Тузeнбaxa. Тeпeрь в Тeaтрe им. Мoссoвeтa у нeгo рoль Чeбутыкинa в «Трex сeстрax» и Сeрeбрякoвa в «Дядe Вaнe» в пoстaнoвкe Aндрeя Кoнчaлoвскoгo, a тaкжe Пoдтягинa в нaбoкoвскoй «Мaшeнькe», пoстaвлeннoй Ивaнoм Oрлoвым.
Бaгдoнaс пoстoяннo снимaлся в рoссийскoм кинo: в «Иди и смoтри» Элeмa Климoвa, «Дoмe дурaкoв» Aндрeя Кoнчaлoвскoгo, «Дирижeрe» Пaвлa Лунгинa (впeрвыe этo былa глaвнaя рoль в 64 гoдa), «Исaeвe» Сeргeя Урсулякa, «Крae» Aлeксeя Учитeля, «Крaсныx брaслeтax» Нaтaльи Мeщaнинoвoй.
«Мoи рoдитeли скaзaли: «Eсли уeдeшь из Вильнюсa, мы умрeм»
— Эймунтaсa Някрoшюсa пoxoрoнили в нeбoльшoм литoвскoм гoрoдкe, кaк oн xoтeл. Вы прoвoжaли eгo в пoслeдний путь, xoтя прoщaниe былo зaкрытым.
— Шилувa — мaлeнький пилигримский гoрoдoк, извeстный свoим кoстeлoм. Вoзмoжнo, этo стрaннo, нo мoгилы рaспoлoжeны прaктичeски нa плoщaди для пилигримoв. Тaм Эймунтaс xoтeл быть пoxoрoнeнным, тaм eгo рoдинa. Eму тaкoй бoльшoй кусoк земли выделили, и такая красивая могила была! Как бездна. Три метра в глубину. Изнутри всю ее выложили белыми розами. Я обомлел, увидев это.
— Трудно назвать другого режиссера, который оказал бы такое же сильное влияние на многих людей моего поколения.
— В Литве таких космических людей больше нет. Он был большим ребенком. Никогда не сидел в зале во время спектакля. Всегда находился за кулисами, много курил, но безошибочно понимал, как идет спектакль. Эймунтас чувствовал ритм.
— Он не давал вам воли, как Кончаловский? Все было жестко?
— Жесткости в нем не было, во всяком случае, в наших отношениях. Он давал такие советы, что ты сразу понимал, что с тобой должно происходить. Скажем, в сцене смерти Дездемоны в «Отелло». Я тогда уезжал, и ассистент Някрошюса принес записку, где была указана очередность действия. Она произвела на меня ошеломляющее впечатление. Я сразу понял, что со мной будет происходить. Как-то он мне сказал: «Плюй на ладони и обтирай Дездемону». И все! Смысл стал понятен. Актеру просто играть, когда он знает, какое чувство должно в нем рождаться. Эймунтас знал психику актера.
Кадр из фильма «Иди и смотри»
Пока мы разговариваем, раздается звонок. Владас объясняет: «Позвонил мой ученик — любитель экстрима. Он сейчас в джунглях. Думаю, пойдет с секирой и будет их рубить, прорываться туда, куда сам не знает».
— В день, когда вы отмечали юбилей, пришли многие ваши ученики. А ведь некоторых вы выпустили 20 лет назад.
— Теперь они сорокалетние люди. Все работают по профессии.А я давно не преподаю. Выпустил четыре курса. Когда-то меня пригласила Даля Тамулявичюте на свой курс, и я помогал чем мог. Потом она решила покинуть пост руководителя кафедры актерского мастерства и предложила занять мне свою должность. Я с испугом отнесся к ее предложению. Но Даля настойчиво упрашивала, и я пошел на эту глупость. Как завкафедрой должен был набирать курс, и теперь мне стыдно вспоминать, что я делал на первом экзамене. Со временем привык к преподавательской деятельности, что-то стало удаваться. Мне казалось, что я должен делать все сам — искать пьесу, режиссировать, создавать сценографию… Набрал даже курс ведущих программ, шоуменов, когда предложили, не имея понятия о том, как всему этому можно учить. В итоге мы работали по обычному курсу актерского мастерства, по системе Станиславского.
— Когда вы сами были студентом, о чем мечтали?
— Мечтал играть Шекспира и Чехова, не стремился к тому, чего не знаю, хотел рассказать о человеческих судьбах, выразить чувства людей. Я мечтал попасть в театр в Вильнюсе, хотя в то время, когда я окончил консерваторию, лучшим был театр в Клайпеде под руководством Гайдиса Повиласа, и оттуда пришло приглашение. Но мои родители сказали: «Если уедешь из Вильнюса, мы умрем». Поэтому, когда пригласили еще и в Молодежный театр, я с радостью туда пошел. Правда, мой педагог сказал: «Ну и дурак ты».
— Сколько лет вам тогда было?
— Я поступил в консерваторию в 17 лет, а когда пришел в Молодежный театр, меня сразу же забрали в армию. Отслужил в Белоруссии, вернулся. Мне было 23 года, когда в театре зарождалось что-то новое, а за билетами стояли огромные очереди. Молодежь с ума сходила от наших спектаклей. Но однажды, когда я на сцене произносил монолог про молодость, школьники в зале захохотали. Так я почувствовал, что мы стали угасать. Я набирал авторитет в театре, получал главные роли. А потом пришел Някрошюс, и Даля Тамулявичюте бережно и красиво отдала ему свои позиции, а они были сильны в театре. Эймунтас был ее учеником, и она его отправила учиться в Москву к Гончарову, сделала все, чтобы дать ему возможность ставить все, что он хотел. Это был очень правильный и материнский ход.
В роли Фауста. Фото: театр Meno Fortas
— Ради чего пошли в актерскую профессию? Тщеславие, гордыня — все это было?
— Я рос в простой семье на обычной улице. Какая там гордыня! Хотя все, наверное, хотят славы и денег, мечтают получить квартиру. Я бы тоже хотел ее получить, потому что был женат, но ничего не просил. От театра в этом смысле ничего не получал, кроме оклада и хороших ролей. Материальных ценностей он мне не дал. Я был единственный народный артист, у которого не было государственной квартиры.
— К творческим людям в Литве тогда было почтительное отношение?
— Когда пришла знаменитая десятка Тамулявичюте, ее ученики, театр воспрял, стал популярным. Идешь к врачу — у тебя в руках пригласительный. На актеров Молодежного театра смотрели с уважением. Меня не приняли в университет на исторический факультет, потому что я плохо говорил по-литовски. А в консерваторию взяли, но сказали: «Плохо ты говоришь по-литовски, но мы тебя выучим». Они учили, но я и сам учился. Ездил с писателями на творческие вечера, читал стихи и прозу. В моей голове было на восемь часов различных текстов. Нечаянно появился мюзикл «Загонщики огня», где нужно было петь. И я запел. Тогда бросились ко мне композиторы, начали предлагать свои песни. С песнями и гитарой начал ездить по Литве с писателями. Когда начинались вопросы-ответы, часто получал записки, а писатель не получал ничего. Интересное было время! С Миколасом Карчяускасом, который недавно умер, мы объездили всю Литву. Я много ездил с Юстинасом Марцинкявичюсом, народным писателем Юозасом Балтушисом — невозможно было войти в зал. Он очень интересно говорил — просто и правильно. Но наступили новые времена, и его сочли слишком советским. Юозас Балтушис никаких институтов не кончал, а когда начал писать, зарабатывал тем, что натирал паркет. Потом уже стал партийным лидером в Союзе писателей. С ним было интересно ездить, и проза у него была хорошая, внятная. Я любил ее читать.
«В школу я пошел, не зная ни одного литовского слова»
— Как вам жилось в советское время? Сильно ваша жизнь отличалась от московской и ленинградской?
— Мы артисты, и когда заняты, даже не понимаем, что такое повседневная жизнь. К 11 утра идешь на репетицию, в 15 часов бежишь на радио. Люди с нами здоровались на улице, уважали. Приедем с писателем в район, выпьем пива. Всем весело. Никто особо не прижат. Как в колхозах жили — не знаю. Но были времена тяжелые, когда ничего невозможно было достать. Прилавки опустели, даже сыра не стало. У литовцев появилась какая-то грузинская жилка: ничего нет, но все можно достать.
Кадр из фильма «Дирижер»
— Но литовцам удалось себя сохранить.
— Самое главное — мы сохранили язык. Писатель, литератор был уважаемой фигурой. Хорошо помню, как говорили в Вильнюсе в середине 50-х. Большая разница с 1980-ми, благодаря нескольким факторам. Один из них — усиленное изучение литовского языка. Все было грамотно придумано, и Вильнюс заговорил по-литовски. А в середине 50-х там говорили по-русски и по-польски.
— Как так получилось, что вы не знали литовского?
— Я жил в русскоязычном районе, на рабочей окраине Вильнюса, у железной дороги. Моим главным языком был польский. Родители были выходцами из деревни, где говорили по-польски. Так часто бывало: говорили по-польски, а пели по-литовски. В школу я пошел, не зная ни одного литовского слова, потому что на улице никто по-литовски не говорил. У нас жили русские, одна украинская семья и две еврейские. Мой отец считал себя литовцем, но дома мы говорили по-польски. Хотя это была какая-то смесь с белорусским или каким-то другим языком. Летом я бывал у дедушки с бабушкой в деревне. Там мы с моими двоюродными братьями и сестрами играли на польском языке. Я к нему привык и очень не хотел идти в школу в страхе, что ничего не знаю.
— Сколько времени теперь проводите в Литве и России?
— Все зависит от работы. Если репетирую, то остаюсь у вас на пару месяцев. В Питер, где у меня спектакли в театре «Балтийский дом», приезжаю за день, отыграю, переночую и возвращаюсь домой. В Москве занят в спектаклях Андрея Кончаловского. На роль Серебрякова Андрей Сергеевич меня ввел, чтобы я чередовался с Александром Филиппенко. Так что играю не каждый месяц. Да и сложно собрать артистов: все звезды, много снимаются.
— Двоемирие привлекательно: живешь параллельно в двух странах.
— Поездом с удовольствием бы путешествовал. Я же сын железнодорожника. Так что поезд у меня в генах. Самолетом не люблю летать — долго. За два часа приезжаешь в аэропорт, потом добираешься из него в город. Так день и проходит. В поезде мне уютней. Люблю возвращаться домой, люблю родной Вильнюс. Мне предлагали роль Плюшкина в «Мертвых душах» у Кирилла Серебренникова. Я пришел в театр, посмотрел на молодых людей, побывал на репетиции, послушал, как они читают. Все было мне странно. Наверное, я устарел. Показалось, что не приживусь. Да и побоялся, что если появится еще один спектакль, то буду вообще в Москве жить.
С Эгле Шпокайте в спектакле «Отелло». Фото: театр Meno Fortas
— Понятие «школа» еще существует? Мне-то кажется, что у литовской есть своя специфика.
— Не могу сопоставить литовскую школу с какой-то другой. Она так меняется! В академии преподают столько педагогов, и у каждого своя методика. Иногда слышу текст, и мне хочется, чтобы он звучал иначе. Но подойти и сказать не решаюсь — не имею такого права. Так можно сорвать сложившийся стиль спектакля. Я сам себе школа. Выучился не только в консерватории, но благодаря многолетней сценической практике, поездкам с писателями, общению с публикой. Артисты иногда задают режиссеру странные для меня вопросы. Например, о том, должно ли быть смешно.
— Но когда Некрошюс говорил в «Отелло», что надо носить дверь на спине, это не казалось странным?
— Нет. У Някрошюса был репетиционный метод работы. Мы всегда начинали с нуля. Единственный случай, когда он точно знал, чем закончится спектакль, это «Пиросмани, Пиросмани…». Он мне показал финальную сцену, и я понял, что спектакль случится. Мы начинали работать в Венеции, и Някрошюс спросил: «Владас, что будем делать?» Я предложил: «Давай бегать». И все стали бесцельно бегать по стульям. После этого у нас была сцена с Дездемоной, и мы десять минут танцевали до полного иссякания. Итальянский критик Франко Куадри назвал ее гениальной, а когда увидел в сокращенном до пяти минут виде, удивился. Но у нас просто не было сил ее делать. Мы пробовали самые разные вещи, и Някрошюс из них составлял мозаику. Эгле Шпокайте была не только прекрасной балериной, но и отличной партнершей и хорошей актрисой.
— Помните первую встречу с Элемом Климовым?
— Да. Он зачем-то приехал в Вильнюс, и мне позвонила ассистентка с Литовской киностудии, пригласила к ней зайти: «У меня гость, и он хочет с вами поговорить». Мы жили по соседству. Я пошел и увидел высокого мужчину. Мы разговаривали, я что-то лепетал о фильме, который накануне показывали по телевидению. По-моему, это была картина Пырьева по Достоевскому. Мне она понравилась, и я плакал перед экраном. Климов на это сказал: «Глупец! Это самое ужасное кино, которое я видел». Мы попили чаю и разошлись. А я думал: зачем меня позвали? Но Климов пригласил меня в свой фильм. Почему? Не знаю. Может быть, искал типажи. Когда меня загримировали, я действительно стал похож на белоруса.
фото: кадр из видео
C Юлией Высоцкой в фильме «Дом дураков»
— Забавная история у вас приключилась с исландским режиссером Бальтасаром Кормакуром, у которого вы снялись в «Прогулке на небеса».
— Он мне сказал: «Приглашаю тебя в свою картину. Расскажешь, как снимался фильм «Иди и смотри». Недавно я посмотрел его обновленную версию и увидел, что одним кадром снят пожар в деревне. Не знаю, как назвать это движение бегущих людей, тот ужас, который играют актеры. Климов, по-моему, впервые получил стедикам, и бедный оператор Алексей Родионов с этой камерой за нами носился по лесам, горам, полям. Но как снимался именно это эпизод, я так и не смог Бальтасару рассказать. Он, наверное, загрустил, но все равно дал мне маленькую роль.
— Кончаловский сыграл важную роль в вашей жизни?
— Да, но я всегда его побаиваюсь. Никогда не боялся Някрошюса, а Кончаловского побаиваюсь. Он большой эрудит, начитанный, много знает, человек из высшего общества. Всегда присутствует на своих спектаклях, следит, как они идут, и сам выходит на поклоны. У него зоркий глаз. Смотрит на тебя, желает удачи, и надо, чтобы спектакль прошел очень хорошо, в нужном ритме, весело.
— И вы с ним на «ты»?
(Владас долго вспоминает.) — По-моему он со мной на «ты», а я с ним на «вы». В «Трех сестрах» есть пьяная сцена Чебутыкина во время пожара. Одна из сестер говорит: напился страшно. Я и играю страшно напившегося человека. Не знаю полубеременных и полупьяных. Если человек напился, у него вспыхивают разные эмоции, хотя зрителю, может быть, и не очень приятно, когда шатается дурак на сцене. Я сам придумал эту сцену. Выхожу с расстегнутой ширинкой и говорю: «Что смотрите?» В этот момент Александр Домогаров показывает на мою ширинку. Какой конфуз! Я стараюсь ее застегнуть. Как-то ко мне подошел Кончаловский и сказал: «Знаешь, в этой сцене…» и добавил: «Ай, делай что хочешь».
— Здорово, что у вас есть поклонницы, которые ездят за вами на протяжении десятилетий. Это ведь высшее признание.
— Одна из них — Марина — приезжает на мои спектакли из Москвы. Она — любитель литовского театра и не только, разъезжает по всему миру. Когда я выхожу из Театра Моссовета, там могут стоять несколько человек, которые хотят со мной сфотографироваться. Но в основном ждут других героев.
— Домогарова?
— К нему стоят очереди женщин с цветами. Куда он девает 100 кг роз? Иногда думаю, что ему стоит открыть цветочный магазинчик. Мне нравится за этим наблюдать. Сейчас еще прибавился Павел Деревянко. У него тоже много поклонников.
фото: Светлана Хохрякова
С Регимантасом Адоматисом на бенефисе в Вильнюсе.
— Боитесь затишья?
— Когда не ждешь, тогда придет. А если думать о том, чтобы зазвонил телефон, то может ничего и не быть. Моя творческая жизнь проходила без каких-либо надежд и простоев. Были кризисные моменты, глупые и странные роли и спектакли, как мюзикл «Улица коммунаров», где я играл одного из коммунаров. Но тогда время было такое. Я хотел уйти из Молодежного театра еще до Някрошюса, перейти в Национальный академический театр. К счастью, передумал. Если бы я туда пошел, думаю, сейчас бы мы с вами не разговаривали.